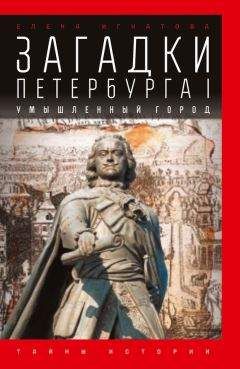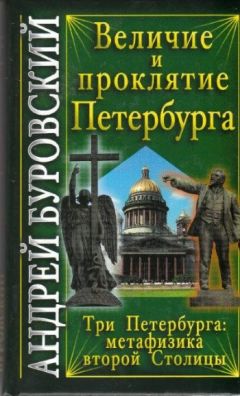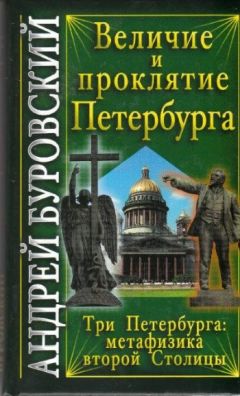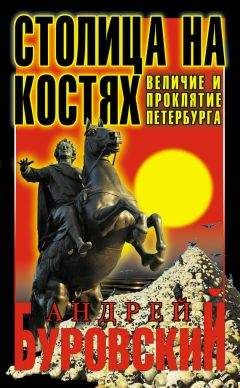Елена Игнатова - Загадки Петербурга II. Город трех революций
Ленинград первой половины 30-х годов тоже был «ложным пространством», за парадным фасадом которого шла ломка. В 1932 году в стране была объявлена «антирелигиозная пятилетка», и к 1 мая 1937 года планировалось закрыть культовые здания всех конфессий и «изгнать само понятие Бога». В Ленинграде тотчас принялись за дело: закрыли почти все действующие церкви, многие начали сносить, и город стал блекнуть, утрачивая белизну и позолоту разрушенных храмов. «Был… в антирелигиозном музее (б. Исаакиевский Собор), — писал в 1932 году Н. В. Линдстрем. — Колокола сняты. Снят и 8-пудовый высеребренный голубь (Св. Дух), висевший на 50-саженной высоте под главным куполом собора… В соборе выставлены обнаженные мощи Св. Феодосия Черниговского, изображения скопцов и других фанатиков, карикатуры на церковные обряды и духовенство. Все это производит очень неприятное впечатление». За городским парадным фасадом продолжалось выселение и переселение «ненужных» людей, ведь в городе по-прежнему катастрофически не хватало жилья. Домовая комиссия постановила переселить Е. А. Свиньину из ее крохотной комнаты-угла в худшую; «где эта худшая комната, в мансарде или в подвале, я не знаю… куда же мне деваться, если даже в таком углу нельзя будет ютиться! А вопрос этот жгучий для многих, особенно для той массы, которая кинулась сюда со всех концов и которой тоже некуда деваться». Пришлось доказывать, что она «трудовой элемент», собирать справки о том, что ухаживает за больными, шьет и вышивает на заказ, и ее оставили в покое.
Сколько злобы, зависти и доносов порождал жилищный вопрос! По мнению булгаковского Воланда, люди 30-х годов были не хуже прежних, «квартирный вопрос только испортил их», но и он бы поморщился, читая такое: «Прошу выявить гр. Деткову П. Н., проживающую по улице Рылеева дом 20, кв. 28, о том, что у нее есть на станции Пела Северной ж. д. собственная дача, дом в 2 этажа, 1 сарай и баня, усадьба 3000 кв. м земли, две козы и куры, нигде не служит… имеет квартиру на Рылеевой улице в 16 метров и нигде не служит, с тремя детьми и только носит одно золото и серебро и живет душа нараспашку и поговаривает: „дураки работают, а я купаюсь в сыре и масле“… Прошу комиссию расследовать». В райсовете этот донос проверяли несколько месяцев и заключили, что «заявление обследованием не подтвердилось». Хороша мерзавка, польстившаяся на соседскую комнату, не лучше комиссия, скрупулезно проверявшая донос, — в этом клубке коммунальных склок и тупого усердия власти, искавшей, кого выселить, отпечаталось время. Выселяли людей непролетарского происхождения, духовенство, интеллигенцию, и скоро результат сказался: «Город совсем переменил свой вид. Интеллигенции совсем не видно, всюду пролетарская публика, очень невоспитанная и грубая», — писал Линдстрем в августе 1934 года. Но вот какая странность — именно в эти времена в стране сложилась особая репутация ленинградцев как самых вежливых, воспитанных, интеллигентных людей. Полагаю, что столь лестным мнением мы обязаны высланным, разбросанным по всем концам страны, — по ним и судили о ленинградцах.
Окончилась первая пятилетка, в 1933 году началась вторая, но жизнь не слишком менялась: время от времени повышались цены, открывались новые роскошные гастрономы[95], было снесено еще несколько церквей, кого-то высылали — все как прежде. Эта монотонность внушала мысль, что жизнь прочно вошла в колею и так будет всегда. «Доволен ли кто-нибудь? — размышлял в мае 1934 года поэт Михаил Кузмин. — Я думаю, да. Хоть я общественность презираю и ненавижу, но потребность в общественности развита у очень многих людей. Причем эту потребность легче легкого обмануть, давая грубую видимость общественности при самом антиобщественном режиме». Напрасно он презирал «общественность», принадлежность к ней сулила льготы и выгоды. Хорошо принадлежать к литературной общественности: Ленсовет отдал под писательский клуб дом на улице Воинова, и ленинградские литераторы встречали 1935 год в новом прекрасном особняке. Хорошо быть общественником на производстве: выступай на собраниях, сыпь цитатами из Сталина, и тебя заметят, наградят премиальными и путевкой в крымский санаторий. Хорошо быть военным, пусть в небольших чинах: офицерам платят в полтора раза больше, чем штатским, и они получают в своих частях командирский паек (сахар, сливочное масло, сало, мясо), бесплатное зимнее и летнее обмундирование — чем не жизнь!
У армии тоже был парадный фасад, например военкоматы. Вызванный в военкомат Аркадий Маньков был поражен его великолепием: «Входишь на лестницу — и твои глаза слепит убранство… Всюду плакаты. Первым бросается в глаза: „Большевистский привет допризывникам 1913 года рождения“. И от этого не то жутко, не то приятно. На площадках лестницы — пальмы. По углам — белые, мягко растворяющиеся в сумраке статуэтки». Но вопросы призывной комиссии развеяли эйфорию — спрашивали о социальном происхождении, об осужденных в семье, о родственниках за границей. Комиссия решала, к какому роду войск приписать будущего призывника, считаясь не столько с его здоровьем, сколько с классовой принадлежностью — в авиации и бронетанковых частях, например, должна служить только рабоче-крестьянская молодежь. Однако именно среди этих призывников было много истощенных и низкорослых, сказывалось полуголодное существование и вырубка крестьянской породы при коллективизации. Но военачальники и в этом нашли преимущество, М. Н. Тухачевский предлагал пересмотреть критерии медицинских комиссий: «Для большего охвата рабочих и крестьян при комплектовании авиации и бронетанковых войск следует пойти на значительное снижение границы малого роста». В недостатке веса тоже были свои плюсы: «количественно можно увеличить состав воздушных десантов»; самолет при малом весе летчика возьмет больше горючего и боеприпасов; чем тщедушнее танкисты, тем просторнее им будет в танке. Отсюда можно было сделать вывод, что не стоит слишком сытно кормить бойцов.
«Люди сознательно меняли свои „биографии“ и старались жить новой жизнью, пока не вмешивалась судьба, мойра, подписывавшая ордер и обрывавшая нить», — писала о 30-х годах Надежда Яковлевна Мандельштам. Город тоже менял «биографию», утрачивая черты прежнего облика, обновляя состав населения, превращаясь в крупнейший военно-промышленный центр страны. Ленинградцы притерпелись к карточной системе и, пожалуй, не знали, радоваться ли слухам о грядущей отмене продовольственных карточек, ведь пайковые цены на продукты были гораздо ниже, чем на рынке и в свободной торговле. Но в гастрономических магазинах заметно прибавилось покупателей — значит, в городе появилось больше зажиточных людей. Весной 1934 года в моде были белые брюки, гимнасты в белоснежных спортивных костюмах выделывали на первомайском параде балетные па, а барышни мечтали о крепдешине и духах «Красная Москва». С промтоварами было по-прежнему трудно; очереди за тканями, которые отпускали по карточкам, выстраивались с ночи, и матерьялец был убогий, тем не менее в городе стало больше нарядно одетых дам. Их наряды из файдешина, крепдешина и сатина-либерти говорили о привилегированном положении владелиц, такие ткани покупали в спецраспределителях или в Торгсине.
Лето 1934 года запомнилось горожанам двумя событиями: объединением ОГПУ с Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД), в чем многие почему-то усматривали поворот к либерализму, и приездом в Ленинград челюскинцев[96]. Первомайские торжества в Ленинграде прошли под знаком экспедиции «Челюскина»: «В сквере перед Казанским собором была устроена панорама: авария ледокола „Челюскин“. Представлено было в миниатюре ледяное поле, расколотый корабль, хибарки с людьми, собаки, запряженные в сани, и спасающий аэроплан. Пострадали только памятники Кутузову и Барклаю де Толли, которые были завешены белым полотном», — писал друзьям Н. В. Линдстрем. Но когда челюскинцы приехали в Ленинград, демонстрация в их честь оказалась не слишком многолюдной, и Киров сердился на помощников — не могли организовать встречу как следует! Зато прием и ужин в Большом дворце Петергофа удался на славу: «Ужин перемежался выступлениями артистов. Пела Софья Преображенская, чье пение любил Киров… Джаз Утесова участвовал в шествии поваров, несших большую модель „Челюскина“, сделанную из пломбира… Было много артистов, ученых… Приглашенные разошлись по апартаментам дворца, в которых были организованы буфеты, танцы, художественные импровизации», — вспоминал Росляков.
Праздник новой знати напоминал придворные празднества прошлого, былое объединял с современностью пафос имперской силы. Сталину импонировал образ империи, но не такой, какую он застал, — загубленной слабостью власти, нигилизмом интеллигенции, слепым бунтом низов, — пусть ее оплакивают эмигранты. Образцом было время становления империи, и не случайно чуткий к переменам Алексей Толстой начал в 1929 году писать роман о Петре I. Историческая концепция менялась, и в 1934 году над головами историков школы М. Н. Покровского прогремели первые громы за огульное очернение прошлого. Возможно, Сталин видел в деятельности первого русского императора сходство со своими действиями: Петр разрушал старые устои, чтобы создать мощный государственный и военный механизм империи, — у Сталина была та же цель; Петру пришлось утверждать свою власть в борьбе с высшей знатью, а Сталин затратил много сил на борьбу с соперниками из ленинского окружения. Вождь не любил времен, когда ему приходилось держаться в тени, терпеть высокомерное пренебрежение Троцкого, — не любил и не забывал. Теперь высланный Троцкий издалека обвинял его в подготовке термидорианского переворота[97]; действительно, в скором будущем диктатор истребит остатки ленинской гвардии. Сталин подбирал себе окружение, в котором одним из лучших был деловой, энергичный, исполнительный Киров, сознательно строивший свой публичный образ на контрасте с Зиновьевым — никакого своевольства, самоуверенности, подчеркнутая простота и демократизм. В Москве работал всесоюзный крестьянский староста Калиныч (Калинин), а в Ленинграде — пролетарский вожак Мироныч, который появлялся на заводах в старом плаще или поношенном пальто и в «кепке-картузе фасона глубокой провинции». Демократический образ был продуман им до мелочей: у Кирова была дальнозоркость, но на людях он никогда не появлялся в очках, чтобы не походить на интеллигента. Низкорослый человек в гимнастерке, сапогах и кепке-картузе не был похож на барственного Зиновьева, но вел ту же политику, с его ведома и одобрения ленинградское ГПУ создавало политические дела и расстреливало.